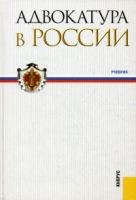
Возьму на себя смелость усомниться в правдоподобности благостной картины российской адвокатуры середины XIX, начала XX века, как некого сосредоточия культуры, нравственности, высокой планки моральных ценностей. И свою точку зрения я попробую обосновать на примерах из русской классики, а также некоторых исторических фактов.
Итак, кто выполнял функции адвокатов до исторической даты 17 апреля (ст.стиля) 1866 года, когда вступили в силу Судебные уставы 20 ноября (ст.стиля) 1864 года, считающейся датой рождения отечественной адвокатуры?
Функции адвокатов, пусть и в очень усеченном виде, выполнял институт, т.н., стряпчих и ходатаев, состоящих из представителей самых различных слоев общества – от дворянских захудалых родов, до владельцев кабаков; главное, чтобы был грамоте обучен, имел связи среди судейских и, что очень желательно, не имел представления о границе, за которой заканчивается нравственность и начинается бессовестность. Впрочем, такой тип достаточно подробно описан у классиков – скажем, в пьесах А.Н.Островского, он появляется достаточно часто.
Впрочем, до Александра II русские цари и царицы, непробиваемой стеной вставшие на пути судебных реформ, отчасти, и стали той причиной, по которой защита граждан от произвола могла существовать только в двух формах: или в виде ходатая, скрипящего пером, или, в виде очередного «заступника народного», призывающего к радикальному решению социальных проблем посредством известного «красного петуха».
Например, даже известная своими передовыми взглядами Екатерина II, имея в виду успехи своего правления, в своей переписке заявляла: «Главная тому причина, что адвокаты и прокуроры у меня не законодательствуют и законодательствовать не будут, пока я жива». Ну, мы-то помним, что в ее правление функцию общественного адвоката, прокурора, а заодно, и судьи, взял на себя Емелька Пугачев, создавший мощную ОПГ, здорово отравившую правление прогрессивной царицы.
Что, тогда, говорить о ее внуке – Николае I, как известно, рассматривающий суд, как исключительно карательный орган. При нем адвокатура была немыслима, хотя бы, потому, что он рассматривал адвокатов, как одних из виновников гибели Франции Бурбонов, следовательно, и как потенциальных врагов абсолютизма в России.
Такая точка зрения вполне имела право на существование; и Дантон, и Робеспьер, как известно, принадлежали к адвокатскому сословию.
Итак, Россия подошла к судебным реформам, практически, создавая с нуля независимую судебную систему, неотъемлемой частью которой является институт адвокатуры.
Казалось бы, все складывается очень неплохо: новоиспеченные адвокаты — присяжные поверенные — всячески открещиваясь от своей предтечи – ходатаев и стряпчих, установили порядок принятия в свое сословие, включающий наличие высшего юридического образования и не менее, чем 5-ти летний срок службы по судебному ведомству.
Некоторые принципы присяжной адвокатуры известны и сейчас; например, недопустимость оказания юридической помощи лицу, чьи интересы противоречат интересам доверителя, защиту которых принял на себя адвокат.
Были сформированы и Советы присяжных поверенных, ставшие органами самоуправления вновь созданной адвокатуры – первым созданным Советом стал Петербургский совет присяжных поверенных, следующим – Московский, следующим – Харьковский.
Но в 1874 году власти поступили привычно и традиционно – поняв, что созданный институт присяжных поверенных стал уж слишком независим, создание новых Советов было прекращено вплоть до 1904 года, т.е., вопреки Уставам 1864 году, предусматривавшим создание Советов во всех судебных округах, власть, одним росчерком пера, нарушила ею же принятые решения о судебной реформе в части развития института присяжных поверенных.
Кстати, частные поверенные, институт которых был введен 25 мая 1874 года – прообраз нынешних «кабинетчиков», вообще находились в ведении Министерства юстиции…
Не смотря на то, что созданная адвокатура всячески открещивалась от наследия ходатаев и стряпчих, методы их деятельности получили самое широкое развитие, но уже с поправкой на высшее юридическое образование и способность много и складно рассуждать ни о чем.
Скажете – клевещу злобно? Обратимся к классике: итак, Ф.М.Достоевский, «Братья Карамазовы». Читали, полагаю, все. Ну-ка, вспомним, Фетюковича и его речь, красноречиво охарактеризовавшуюся Достоевским, как «блудодейство мысли», а Балалайкин у Салтыкова-Щедрина, и Хлестаков (сын того, гоголевского Хлестакова), у него же?
Понимаю – не все, даже описанное у классиков, нужно принимать, как истину в последней инстанции. Мнение тогдашних СМИ не привожу сознательно – там оценки еще более жесткие.
Обратимся к беспристрастной статистике. Сколько присяжных поверенных, которых принято, и заслуженно, считать корифеями адвокатуры мы знаем? От силы – два десятка. Причем, многие из них приобрели известность, выступая защитниками на громких политических процессах, как, например, П.А.Александров по делу террористки Веры Засулич.
Разумеется, защищая политических террористов, мало кто из присяжных поверенных представлял себе, что защищает своих будущих могильщиков.
Итак, согласно данным «Истории русской адвокатуры», изданной в Москве в 1914 году, к началу XX века всего присяжных поверенных в России в 1895 году было 2149, не считая частных поверенных.
Понятно, что в условиях, когда закон «на местах» нередко подменялся волей чиновника, начиная от губернатора, заканчивая городовым, утверждать об уважении к закону со стороны обывателя было бы странно. Также, понятно, что при таком уровне правовой культуры среди населения говорить о востребованности пусть и грамотного, но не имеющего нужных связей адвоката не приходилось.
Поэтому, в случае возникновения проблем с властями, а уж тем более, когда дело доходило до суда, этот самый обыватель начинал искать обходные пути, исходя из собственного представления о правосудии.
Вот тут ему на помощь и приходил очередной Балалайкин, который прекрасно понимал, что, во-первых, в России самый короткий путь не обязательно прямой; во-вторых, дорасти до уровня того же Плевако (включая и суммы его гонораров) не всем дано, а помирать с голоду никому не хочется. После этого, найдя ключ к сердцу Председателя суда, отыскав надлежащим образом проинструктированных им же «свидетелей», произносил пламенную речь в суде.
Все. Победа.
Менее удачливые (или более совестливые) коллеги Балалайкина продолжали вести полунищенское существование – они-то не знали обходных путей…
Причем, это касалось не только российских захолустий – не будем забывать, что адвокаты, в основном, старались практиковать в крупных городах, где и там работы на всех не хватало.
Собственно, кредо таких адвокатов предельно кратко и исчерпывающе изложил известный ученый цивилист Е.В.Васьковский в своей книге, вышедшей в 1895 году «Основные вопросы адвокатской этики»: «…адвокату выгодно быть нечестным».
Тем не менее, адвокатура продолжала пополнять свои ряды – в 1914 году число присяжных поверенных составляло 5489 человек. И уж разумеется, среди них было немало фетюковичей и балалайкиных.
К чему это я все?
А к тому, для того чтобы что-то понять истинное место адвокатуры в России, нужно избавиться от мифологизации той, прежней адвокатуры, поняв, что все негативные стороны адвокатуры нынешней мы получили в наследство вместе с системой, при которой, будь во главе ее царь, генеральный секретарь или президент, по сути своей, братья-близнецы в своем отношении к закону, как мебели в собственной квартире, которую можно переставлять по собственному усмотрению, или выкинуть за ненадобностью.
Нормальная статья, мне понравилась, а то все про победы и победы, фасад то у всех нас хорош, а вот если посмотреть шире. да с другого ракурса…
с другого ракурса как раз самое интересное!
Браво! Это вторая статья, которую я у Вас читаю и просто в десятку!!! Я Вам даже больше скажу — присмотритесь КТО в современности так благоволит к доревоюционной адвокатуре и КТО ею прикрывается. Кто написал современный закон по образу уставов дореволюционных. И посмотрите есть ли у этих СТАРШИХ ТОВАРИЩЕЙ хоть один не «заносной приговор» в пользу клиента.
Спасибо за статью, она довольно красочно описывает историю адвокатуры. Согласна с Вами, что система оказывает значительное влияние на состояние нашей нынешней адвокатуры.
Система — лучшее, что есть! Именно эта система формирует прямоходящих! Ну а то что при ней много прогибающихся, так на то и система, чтобы показывать из кого настоящего адвоката не получилось!
Вы прям самую суть написали:
что все негативные стороны адвокатуры нынешней мы получили в наследство вместе с системой, при которой, будь во главе ее царь, генеральный секретарь или президент, по сути своей, братья-близнецы в своем отношении к закону, как мебели в собственной квартире, которую можно переставлять по собственному усмотрению, или выкинуть за ненадобностью.Абсолютно согласен(Y)
в случае возникновения проблем с властями, а уж тем более, когда дело доходило до суда, этот самый обыватель начинал искать обходные пути, исходя из собственного представления о правосудии К сожаленю, абсолютное большиство наших сограждан и сейчас поступает именно так.
Обыватели утратили веру в законность и правосудие как таковое, и с порога спрашивают адвоката о наличии связей среди правохоронителей и судей. Они просто не верят в саму возможность объективного следствия и состязательного суда.
Однако, примеры реальных побед всё таки есть (в т.ч. и на нашем сайте), и если защитник может и хочет действительно работать, а не просто «заносить», многое можно сделать даже в нынешних условиях, когда депутаты и чиновники всех мастей продолжают относиться к Закону как к:
мебели в собственной квартире, которую можно переставлять по собственному усмотрению, или выкинуть за ненадобностью
Не в качестве «прогиба» — спасибо за вменяемую дискуссионную площадку!
Занимательный материал в четком и ясном изложении мнения автора.
А почему бы и нет? Адвокатура — это социальный институт, на который накладывает отпечаток общественный строй, который властвует в стране в данным момент времени.
Признавать полную независимость адвокатуры от общества и от государственного строя я бы засомневался. ну не получается это, как бы этого нам не хотелось.
Однако, адвокат — это не только профессионал, это, прежде всего, — личность, конкретный индивидуум с его сильными и слабыми сторонами. Очевидно и то, что практически каждый человек склонен к проявлениям эгоизма и давлении личностных интересов. Несомненно и то, что не каждый является или становится героем.
Но, все же, считаю, что добросовестный адвокат, как и любой профессионал, должен стремиться к повышению профессионального уровня, а из истории брать лучшие уроки, т.е. те самые крохи идеала, к которому надо стремиться. А визуальную картинку той обыденности и массовости какого-либо явления оставим истории.
Иначе нас ждет остановка в развитии.
Можно еще вспомнить Александра Сергеевича, на мой взгляд, это первое и такое точное описание рейдерского захвата с использованием юридических техник, суда и «юриста» (заседателя).
↓ Читать полностью ↓
«Троекуров узнал заседателя Шабашкина, и велел его позвать. Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кирилом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном, и с благоговением ожидая его приказаний.
— Здорово, как бишь тебя зовут, — сказал ему Троекуров, — зачем пожаловал?
— Я ехал в город, ваше превосходительство, — отвечал Шабашкин — и зашел к Ивану Демьянову узнать, не будет ли какого приказания от вашего превосходительства.
— Очень кстати заехал, как бишь тебя зовут; мне до тебя нужда. Выпей водки, да выслушай.
Таковой ласковый прием приятно изумил заседателя. — Он отказался от водки и стал слушать Кирила Петровича со всевозможным вниманием.
— У меня сосед есть, — сказал Троекуров, — мелкопоместный грубиян; я хочу взять у него имение — как ты про то думаешь?
— Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы, или...
— Врешь братец, какие тебе документы. На то указы. В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение. Постой однако ж. Это имение принадлежало некогда нам, было куплено у какого-то Спицына, и продано потом отцу Дубровского. Нельзя ли к этому придраться.
— Мудрено, ваше высокопревосходительство, вероятно сия продажа совершена законным порядком.
— Подумай, братец, поищи хорошенько.
— Если бы, например, ваше превосходительство могли каким ни есть образом достать от вашего соседа запись или купчую, в силу которой владеет он своим имением, то конечно...
— Понимаю, да вот беда — у него все бумаги сгорели во время пожара.
— Как, ваше превосходительство, бумаги его сгорели! чего ж вам лучше? — в таком случае извольте действовать по законам, и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие.
— Ты думаешь? Ну, смотри же. Я полагаюсь на твое усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен.»Что произошло дальше всем известно. А решение суда просто великолепно, читаешь и явственно видишь речевые обороты, перекочевавшие в сегодняшние решения.Перечитайте, очень рекомендую.
Интересная статья! Но можно сказать проще: Адвокатуры в России отродясь не было и нет, хотя именно нынешняя псевдодемократическая власть должна бы ее вскормить.
Современная адвокатура России по большей части состоит из одноклеточных, нечто вроде цианобактерий, бишь сине-зеленых водорослей. На фоне этих одноклеточных даже инфузория-туфелька выглядит сапиенсом. Ну а если в регионе случается пять-шесть Адвокатов на миллион жителей, это уже воспринимается нынешними соискателями доцентских и профессорских шапочек как «возрождение российской адвокатуры».
Адвокатуры в России нет до сих пор!
Встречающиеся изредка позвоночные и даже прямоходящие, группируются на этом и подобных ему сайтах. И то, что такие все-таки встречаются, дает надежду на то, что институт адвокатуры в России откажется от большинства нынешних президентов палат и скажет пусть не инфузориям, пусть хотя бы только одноклеточным — изыдите!
Не можешь думать, говорить и защищать своего клиента — иди в гособвинение!
Жестко, но — что называется, в яблочко. Собственно, чего ждать от адвокатуры, если она состоит почти целиком из бывших ментов, выгнанных даже из милиции. А адвокатские палаты — чистой воды жандармерия над собственными рядами адвокатов, и попробуй вякни что-нть против, моментально дисциплинарка и гоу-аут!
Уважаемый Skeptik, напрасно Вы так:
чего ждать от адвокатуры, если она состоит почти целиком из бывших ментов, выгнанных даже из милиции не все адвокаты «выгнаны» из милиции, а как раз напротив — действительно защищают своих клиентов. По крайней мере на этом сайте их предостаточно.
Скажем так и из милиции выгоняют временами не самых худших! И из тех, «не самых худших», случается, вырастают прекрасные Адвокаты!
Удивили, г-н Никитенко! Кто ж спорит, что в каждом правиле есть исключения?! Но это же не говорит о том, что само правило порочно. Оттого, что Курт Вальдхайм был в прошлом нацистом, а потом стал Генеральным Секретарем ООН, совсем не следует, что быть нацистом вообще не зазорно.
Я писал о тенденции в целом. Вы так ярко написали о фактическом отсутствии Адвокатуры в России. Я же постарался объяснить причину — со своей точки зрения. Обратите внимание на «адвоката» Черноусова, прыгающего из студии в студию на разные ток-шоу. Он не только не скрывает, что является бывшим сотрудником, но даже афиширует это — «полковник милиции в отставке»! Собственно, ему бы и не скрыть это. С бульдожьим выражением лица и такой же лексикой этот «адвокат» — и есть ныне истинное лицо российской адвокатуры.
Просто в силу той идиосинкразии, которую испытывает ко мне председатель нашего областного суда, я не могу сказать какие адвокаты из ментов у нас действительно Адвокаты. Опять же в силу своей уголовной сущности, я милицию и полицию уважаю — мои «преступления» расследовались исключительно прокуратурой и СК:)
Хаааа! Класс! Вот это, что называется «рубаха наружу»! Надо ссылочку на эти параллельные монологи знакомому психоаналитику кинуть! (rofl)
Про бывших судей запамятовали добавить.
повинную голову мечь не сечет! Каюсь, запамятовал! Андрей Валерьевич! Ногами не бейте! И таки знаю нескольких замечательных адвокатов из судей. Правда не уверен, что кто-нибудь из них хоть раз с Честью выступал Защитником не за деньги, а по назначению
Адвокат в моем понимании — это суперпрофессионал в юриспруденции! И здорово, что и поныне есть представители этой профессии, которые вызывают восхищение!
как часто вы бываете слушателем в судах?
Я часто имею возможность знакомиться с работой прекрасных адвокатов, чьи дела размещены на этом портале.
Рекомендую и практику в судах практиковать:)
Это уже не входит в разряд моих обязанностей. Скорее я отношусь к постоянным клиентам :)
Ну и я сегодня был в СИЗО впервые с другой стороны:)
Обожаю Михаила Евграфивича! Русский Макиавелли. Перечитаю
Что сказать? Автор порадовал не односторонним подходом. Предлагаю Андрею Юрьевичу расширить этот подход в двух направлениях:
— С точки зрения сравнительного правоведения посмотреть как там в других странах (например «Адвокат дьявола» в США, или Тарантини в сериале «Спрут», а заодно не забыть тех адвокатов, которые защищали наших граждан в странах исламского права...);
— Заглянуть в прошлое, а то все говорят, что адвокаты с Древнего Рима пошли, только вот забыли, что это были патриции, и тот же Цицерон был оратором, а не адвокатом. Но в какой-то момент ораторы вдруг начинают быстренько пропадать, а повсюду при поддержке государства возникают коллегии адвокатов! Почему? Что случилось?
Вот тогда будет действительно СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД!
А.Ю! Спасибо за статью.Есть повод поразмыслить. В то время адвокатура отражала то общество и сегодня то же самое. Мы не лучше и не хуже наших предшественников. Единственное ее отличие — по моему мнению — они были более образованными относительно: знали языки, знали все зарубежные труды по адвокатуре, общались с зарубежными юристами.
По моему не было такого разрыва между юристами разных отраслей как ныне. В настоящее время по крайней мере в провинции практически отсутствует общение по обмену опыта с суд, прок, следователями и дознавателями. Все в своих «углах», делают узко профессиональное а не общественное.
Защита по сложным уголовным экономическим делам.
Борьба с фальсификациями и незаконными методами расследования. Опыт, надёжность, добросовестность!
Консультации, дела.
Действую с интересом, спокойно и тщательно, очно и дистанционно.
Дорого, но зато качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.

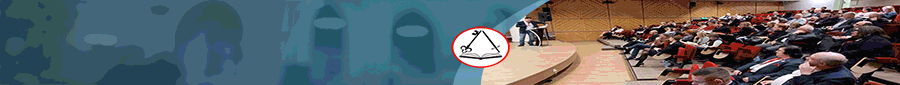
Уважаемый Андрей Юрьевич, уж лучше бы вы что-нибудь позитивное написали, а то как то мерзко на душе стало после прочтения.
А по мне правильно! Как будто у нас на рубеже тех еще веков одни Плеваки были!
Позитивное, говорите?
Ну, где-то так:
«Мы счастливей всех на свете,
Мы добрались до Луны,
Хорошо живется детям
Нашей солнечной страны»:)